Зачем мы ходим на работу?
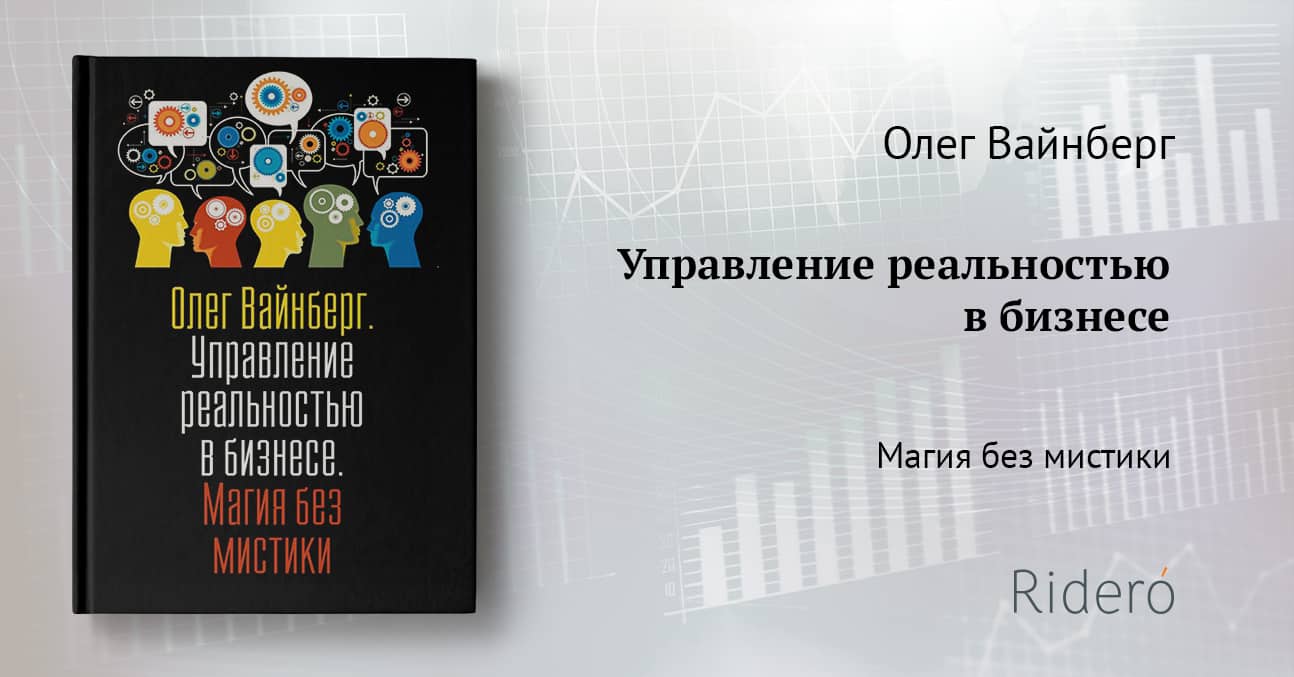
Разумеется работать. Получать достойную зарплату за хорошо выполненную работу, расти профессионально и карьерно. Зачем еще мы иногда приходим в организацию? Для ответа на этот вопрос стоит внимательно присмотреться к тому, что и как мы делаем в организации. Организация, как кусочек мозаики, подходит к нашим системным паттернам. Вариантам несть числа, можно упомянуть только наиболее часто встречающиеся.
Я делаю это вместо тебя.
Я сделаю это вместо тебя. Лучше это произойдет со мной, чем с тобой, лучше я, чем ты. По самым разным причинам этот паттерн может сформироваться в нашей личной истории. Все мы родом из детства. Ребенок еще не понимает, что если мама простудилась, лежит с температурой и не может к нему подойти, это не значит, что она умирает. Или если с папой что-то не в порядке. Для ребенка все события – значимы. Может этот шаблон поведения прийти и от родителей, бабушек и даже глубже. В конце концов, дети учатся, копируя модели поведения взрослых. Люди с таким шаблоном будут искать организацию, которая жизнерадостно свалит на них всю работу. Из них получаются исключительно ответственные и добросовестные сотрудники, очень часто они дорастают до топ-менеджеров, например, их много среди финансовых директоров. Они приходят на работу первыми, уходят последними и искренне верят в то, что «если хочешь, чтобы что-то было сделано хорошо, сделай это сам». Даже если в глубине души они понимают всю абсурдность этого высказывания, даже если у них на стене висит диплом MBA и они выучили, что работа менеджера именно в том и заключается, чтобы не делать самому, а наладить целеполагание, планирование, мониторинг и анализ результатов, в самой глубине души они уверены, что лучше них никто не закрутит этот «главный болт». Он найдет организацию, которая это оценит. Хорошие ребята, жаль только часто сгорают на работе.
Нарушение порядка.
У психологов это называется мудреным словом «триангуляция». Когда маленький ребенок говорит маме, что он на ней женится, когда вырастет, это нормально. Конечно, мама – это образец. Или анти-образец, что в общем, одно и то же. Или когда для маленькой девочки папа – самый лучший, или наоборот, самый худший мужчина в мире, это тоже нормально. Для ребенка вообще нет никого, кто мог бы сравниться с их родителями. С возрастом это, обычно, проходит. Но не всегда. Маменькины сынки и папины дочки. Из них, кстати, получаются идеальные секретарши, которые обожают или ненавидят своего начальника и при этом умудряются принести ему кофе ровно на три секунды раньше, чем он осознает, что этого хочет. Человек с таким паттерном часто пытается стать на ступеньку выше себя. Вровень со своим боссом. Или ровно в центр конфликта, как главный «миротворец». Он будет подбирать себе организацию, в которой есть куда встать.
Следую за тобой.
Порожденный примерно теми же обстоятельствами, что и паттерн «я сделаю это вместо тебя», этот шаблон проявляется по-другому. Человек с таким паттерном очень часто занимает место несправедливо обиженного, несправедливо уволенного, несправедливо наказанного. Он первым бросится на защиту коллеги по работе, не дав себе труд подумать, надо ли его защищать. Потому что, глубинная цель такого человека, пострадать вместе с кем-то. Это ведь самый действенный способ почувствовать общность, почувствовать, что ты не один. В конце концов, плотнее всего ты чувствуешь спину товарища в окопе, отстреливаясь спина к спине.
Строгий папа или мама
У психологов это называется умным термином «парентификация». Так случается, если кто-то из родителей или даже еще дальше, рос без отца или без матери. На мой взгляд, этот паттерн, в России, один из самых распространенных. Очень уж много отцов полегло в первую мировую, гражданскую, годы репрессий и вторую мировую. Человеку, который вырос без отца и даже его не увидел, не хватает его всю жизнь. Внутри остается пустое место, все его внимание там. Даже если у него уже есть собственные дети. И дети, как радары, чувствуют это внимание и оказываются на месте родителей для собственных родителей. Они обычно очень «взрослые». Отличники. В школе к ним, иногда, приклеивается кличка «Профессор». Просто отрада родительскому сердцу. Жаль только, что потом они часто пытаются стать таким же папой или мамой собственному начальнику или даже организации в целом. Парентифицированные — это бунтари, но они никогда не бунтуют чтобы добиться чего-то для себя. Им «за державу обидно». При этом у них острый глаз и они обычно точнее и яснее всех понимают, что на самом деле творится в организации. От них, как от строгой мамы или папы, ничего не скроется. Умные организации их используют, в IBM даже есть специальное подразделение, полсотни таких бунтарей, основная задача которых не дать фирме превратиться в болото. Но обычная тенденция в организации — запнуть его на место или выпнуть вон. Иметь в организации такого человека — огромный вызов для всех руководителей. Обычно такой человек еще и по уши погружен в треугольник Карпмана и бегает по кругу между спасателем, агрессором и жертвой. И все три роли ему замечательно удаются. Он четко понимает, от чего и кого спасать и делает это очень агрессивно. Но если выкинуть их всех за борт, организация загниет и зачахнет. Пока парентифицированный находится в треугольнике Карпмана, он замечательно находит себе организации, где нужны спасатели, продолжает наступать на эти грабли и все набивает и набивает новые шишки. Причем, поскольку это детские грабли, шишки появляются в самых неудобных местах.
Это хороший вопрос, почему мы приходим именну в ту организацию, в которую мы приходим?